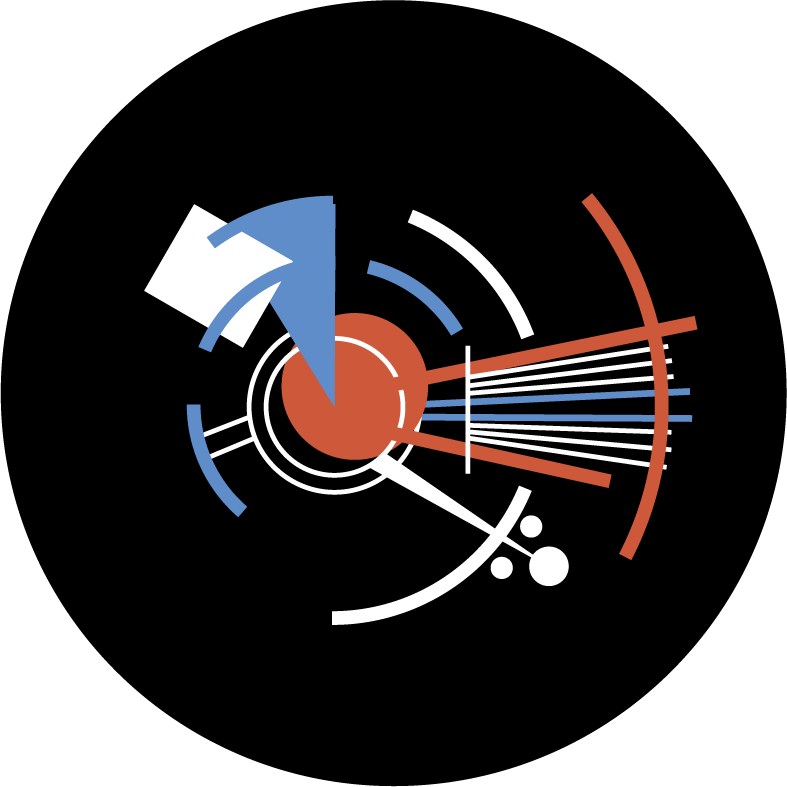Проект "Картинный променад"
01.05.2023 - 30.11.2023
01.05.2023 - 30.11.2023
«Портрет артиста Ф.И. Шаляпина»
год – 1911, художник – Коровин К.А., стиль – импрессионизм







Эта картина была написана в 1911 году на французском курорте Виши, где мы с Костей Коровиным вместе отдыхали. Мне здесь 38 лет – моя карьера в самом расцвете, имя Федора Шаляпина гремит на весь мир…
Мы были закадычными друзьями. Великий бас и русский импрессионист. Вы же знаете, кто такие импрессионисты, да? Они стремились запечатлеть изменчивость мира и свои мимолетные впечатления от него. У них была совершенно иная, революционная техника живописи. Они полностью отказались от основ рисунка – контура, перестали прятать мазок кисти, а наоборот, стали особенно его выделять. Они сменили работу в мастерских на пленэр – то есть работа на чистом воздухе. Работая на природе, на улице, они надеялись еще точнее поймать сиюминутные впечатления от того или иного вида, играя с освещением, погодой и общей, неуловимой атмосферой места.
Импрессионизм возник во Франции, и в России он не был широко распространен, так что работы Кости Коровина в некотором плане уникальны. Все, кто работал с Коровиным, знают, какой это горячий, нервный, порывистый талант. Многим, очень многим обязаны ему наши театры, которым он создавал великолепные декорации. Превосходные его постановки известны по всей России, и я сам лично многому у него научился.
С Костей Коровиным мы познакомились на обеде у Клавдии Винтер. В то время я как раз пел в театре «Частная опера Винтер», который спонсировал известный меценат Савва Морозов. Леди Винтер часто давала обеды, на которые собирались люди искусства. Однажды, придя к ней на обед, я увидел за столом плотного коренастого человека. Это был Савва Мамонтов. Он посмотрел на меня строго и, ничего не сказав мне, продолжил беседу с молодым человеком, украшенным бородкой Генриха IV. Это и был Константин Коровин. Я, как всегда, начал беспечно шутить, балагурить, рассказывать анекдоты и разные случаи из моей жизни. У меня было что рассказать. Все смеялись. Смеялся и Костя. Так мы и познакомились.
Правда, Костя вам бы рассказал другую историю. Он утверждал, что познакомились мы еще раньше, а я, мол, просто забыл. Якобы произошло это зимой в Петербурге, в ресторане Лейнера на Невском проспекте. Я обедал с дирижером Труффи, а Коровин его хорошо знал и подсел к нам за столик. Коровин утверждал, что я тогда спросил его:
-- Parlato italiano? {Вы говорите по-итальянски?)
Он действительно был похож на итальянца: жгучий брюнет. А меня, с моей белобрысостью и голубыми глазами, Костя сперва принял за финна.
Как бы то ни было, судьба сводила нас снова и снова. Костя как художник создавал декорации для Частной оперы Мамонтова, а я пел в постановках этого театра, так что виделись мы постоянно.
Как-то сезон в театре открылся оперой «Псковитянка» Римского-Корсакова. Коровин долго измерял мой рост. Как же я поразился, когда на генеральной репетиции увидел дверь, через которую мне предстояло пройти, намного меньшего размера! Оказалось, Костя нарочно так сделал, чтобы, выходя через нее на сцену, я распрямился с фразой «Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужики-псковичи»… и казался оттого еще огромнее, чем есть. На мне тогда была кольчуга, которую Костя купил на Кавказе у старшины хевсур. Он делал многие костюмы для меня. Знаменитый костюм Ивана Грозного – тоже его работа.
Как-то вышла у нас история в театре. На генеральной репетиции «Хованщины» Мусоргского, я вышел в сцене «Стрелецкое гнездо» и гаркнул на весь зал:
- Где Коровин?
Зал тогда, несмотря на репетицию, был полон зрителей: родственников и знакомых артистов. Смотрю, выходит Костя из средних рядов партера и идет к оркестру. Я говорю ему:
- Константин Алексеевич, я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: «Спит стрелецкое гнездо».
- Федор Иванович – отвечает мне Костя, - конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но все же должен вам сказать, что это день, и не иначе. И это ясно должен знать тот, кто знает «Хованщину».
В это время из-за кулис выбежал режиссер Мельников, в руках у него был клавир. Он показал его мне и сказал:
- Здесь написано: «Полдень».
Долго я не мог этого Косте забыть!
Летом я часто гостил у Кости на даче. Мы, конечно же, ехали на охоту или рыбалку, и местные мужики приходили поздравить нас с приездом, намекая на копеечку. Костя всегда давал им по рублю. Я возмущался:
- Я же здесь хочу построить дом, а ты развращаешь народ! Здесь жить нельзя будет из-за тебя!
А Костя мне отвечал:
- Федя, да ведь это же охотничий обычай. Мы настреляли тетеревов в лесу столько, а ты сердишься, что я даю на чай. Ведь это их лес, их тетерева!
И я замолкал.
А однажды мы с ним поссорились. Дело было опять же у него на даче, день был пасмурный, дождливый. Мы сидели в доме и скучали от безделья.
Я от нечего делать пел:
Вдоль да по речке
Речке по Казанке
Серый селезень плывет…
Пел по кругу, без перерыва, одно и то же.
Костя терпел-терпел и вспыхнул:
- Федя, да брось ты этого «Селезня» тянуть, надоело.
- Ишь ты, - отвечаю. - Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто же, позвольте вас спросить, поет лучше меня, а, Константин Алексеевич?
- А вот и есть. Цыганка одна поет лучше тебя.
- Коська, ты с ума сошел? Какая цыганка?
А он специально отвечает, чтобы позлить меня:
- Варя Панина. Поет замечательно. И голос дивный.
- Коську пора в больницу отправлять, - изумляюсь я. – Это же какая такая, позвольте вас спросить, Варя Панина?
- В Стрельне поет. – И вдруг перевел тему - Ну, погода разгулялась, пойдем-ка лучше ловить рыбу…
Мы взяли снасти, удочки, и пошли через лес к реке. Сели в лодку и поплыли вниз по течению. Стали ловить рыбу. Костя мне объяснять начал, как правильно рыбу ловить. Я насупился, говорю, что лучше его знаю. Смотрю – а Костя вытягивает здоровую язь. Я еще больше рассердился. И запел:
- Вдоль по речке…
- На рыбной ловле не поют – буркнул, Костя.
А я еще громче завожу, специально!
И знаете, что он сделал? Как был, прямо в одежде, прыгнул в воду и поплыл к берегу. Выбравшись на берег, крикнул мне: «Лови один» - и пошел домой.
Я вернулся уже к вечеру с большим уловом. Говорю примирительно:
- Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я, брат, теперь и петь брошу, буду только рыбу ловить!
Так и помирились.
Мне так нравилось на даче у Кости, что я решил построить дом неподалеку, и даже купил 80 десятин земли. Костю попросил мне проект дома нарисовать. Так что вскоре мы еще и соседями стали.
Дааа, были времена…
Затем грянула революция. Я уехал в Нью-Йорк, Костя – в Берлин. Я прислал ему из Нью-Йорка письмо:
"Костя! дорогой Костя!
Как ты меня обрадовал, мой дорогой друг, твоим письмишком. Тоже, братик, скитаюсь. Одинок ведь, даже в 35-тиэтажном Американском Hôtel'e, набитом телами,-- одинок.
Как бы хотел тебя повидать, подурачиться, спеть тебе что-нибудь отвратительное и отвратительным голосом (в интонации). Знаю и вижу, как бы это тебя раздражило, а я бы хохотал и радовался. Идиот!-- ведь я бываю иногда несносный идиот -- не правда ли?
Оно, конечно, хорошо -- есть и фунты, и доллары, и франки, а нет моей дорогой России и моих несравненных друзей. Эх-ма!-- Сейчас опять еду на "золотые прииски", в Америку, а... толку-то!
А ты? что же ты сидишь в Германии? Нужно ехать в Париж! Нью-Йорк! Лондон! Эй, встряхнись! Целую тебя, друже, и люблю, как всегда.
Твой Федор Шаляпин".
Мы встретились через год в Париже. У меня был там свой дом на авеню д'Эйло. Но от былой легкости и веселости наших встреч не осталось и следа. Настроение было тяжелое, мрачное, каким никогда не бывало в России. Я говорил ему:
-- Понимаешь ли, русские говорят, будто я тоже участвовал в революции. Какая же это революция? Я же певец. Мне все равно, кто меня слушает. Плати. В Америке мне платят, здесь тоже. Петь в пользу разных там обществ я не буду. Революция! Какая же это революция? Это бунт рабов. А Горький -- дурак. И ты дурак! Какие на тебе штаны? Не можешь сделаться богатым -- пропадай. Серов пропал. Врубель -- пропал. А я -- погоди!.. Я попою еще лет десять... В Скандинавии озеро куплю и рыбу буду ловить. А вы вот половите ли?.. Посмотрю...
В Париже я продолжал выступать в опере, я все еще имел громкий успех: овации, цветы, поклонники… Я хорошо зарабатывал и даже увлекся покупкой антиквариата и живописи. Но на сердце был камень. Я говорил Косте:
-- Послушай, вот мы сейчас сидим с тобой у этих деревьев, поют птицы, весна. Пьем кофе. Почему-то мы не в России? Это все так сложно -- я ничего не понимаю. Сколько раз ни спрашивал себя -- в чем же дело, мне никто не мог объяснить. Горький! Что-то говорит, а объяснить ничего не может. Хотя и делает вид, что он что-то знает. И мне начинает казаться, что вот он именно ничего не знает.-- А знаешь ли ,-- живи я сейчас во Владимирской губернии, в Ратухине, где ты мне построил дом, где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло сосной и лесом,-- я бы выздоровел. Теперь, наверное, дом весь раскраден и разрушен. Как странно, что грабеж называется революцией. Как я был здоров! Я бы все бросил и жил бы там не выезжая. Помню, когда проснешься утром, пойдешь вниз из светелки. Кукушка кукует. Разденешься на плоту и купаешься. Какая вода -- все дно видно! Рыбешки кругом плавают. А потом пьешь чай со сливками. Какие сливки, баранки! Ты, помню, всегда говорил, что это рай. Да, это был рай.